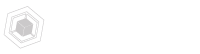НАУКА И НЕПОСВЯЩЕННЫЕ
Наука, призванная изгнать из жизни людей таинственное и магическое, порождает собственные тайны и магию. Неискушенные люди, не обладая достаточными знаниями о состоянии науки, часто относятся к ней с суеверным благоговением и ждут, что она принесет им чудодейственные средства, даст панацею от всех бед. С легкой руки некоторых журналистов они приучились считать это чем-то само собой разумеющимся. О путях и методах научного исследования, о том, как входят в жизнь общества результаты научной деятельности, люди знают очень мало, и поэтому кажущаяся случайность открытий порождает у них неправильное, подозрительное отношение к науке. Люди часто боятся того, чего не понимают.
В своем стремлении к эксперименту наука отвергла натурфилософию, а бурное развитие естественных наук привело к скорому забвению того общего, что было у них с науками гуманитарными. По этой же причине и гуманитарные науки потеряли точки соприкосновения с естествознанием. Узкая специализация представителей точных наук дает им возможность для самооправдания: «У нас нет времени заниматься другими вещами». Но и представители гуманитарных наук находят себе оправдание: «Если специалист, чтобы познать, должен так долго и упорно трудиться, то, очевидно, это выше нашего понимания».
Дробление науки на все большее число отраслей, каждая со своим специфическим жаргоном, отдаляет ученых друг от друга, затрудняет или даже делает невозможным взаимное понимание между ними. Что касается неспециалистов, то те их просто не понимают. В наших специализированных училищах и университетах с их ранним
разделением одна часть наших граждан получает слишком мало знаний в области точных наук, а другая — непропорционально много.
Это в одинаковой степени относится как к факультетам точных наук, так и к гуманитарным специальностям. Но это не только вопрос примирения «двух культур», о которых говорил Чарльз Сноу, — это вопрос о том, в какой степени мы можем ознакомить широкие массы с силами, определяющими само существование современного общества.
Французский ученый Пьер Ожэ подсчитал, что 90 процентов ученых, живших на протяжении всей истории человечества, приходится на наше время и лишь 10 процентов — на остальные периоды истории, считая с того времени, когда мыслящее человеческое существо впервые овладело искусством добывания огня.
Даже само слово «ученый» — изобретение сравнительно недавнего времени. В английском языке, а также, насколько известно, и в других языках этого слова не было по крайней мере до 1841 года. До этого исследователей законов природы называли «людьми науки». Еще в 1895 году лондонская «Дейли ньюс» объявляла слово «ученый» американским новшеством, а Герберт Уэллс до конца своих дней считал выражение «человек науки» наиболее правильным.
Но это существенное различие. «Человеком науки» можно назвать таких виртуозов своего дела, как Пепис, Рен, Эвелин, епископ Уорд, основоположник политической экономии Вильям Петти или Бойль и Гук — основатели Королевского общества.
Людьми науки были члены «Лунного общества» в Бирмингеме, где изобретатель паровой машины Джеймс Уатт спорил о музыке с крупнейшим астрономом и музыкантом Гершелем; где Джозеф Пристли — химик, открывший кислород, — вознагражденный за свои труды тем, что толпа сожгла его дом в Бирмингеме, так же охотно спорил о политике, как и о химии; где Эразм Дарвин размышлял об эволюции — теорию которой суждено было создать его внуку Чарльзу, — а по пути домой сочинял стихи; где керамист Дж. Веджвуд познакомился с учением Пристли об окислении, что помоглр ему изобрести замечательные фаянсовые массы для его знаменитого цветного фаянса.
Эти люди живо и непринужденно обсуждали многие проблемы, в том числе и научные. «Человек науки» того времени мог вести обсуждение различных вопросов с любым другим образованным человеком (другое дело, что круг этих людей был весьма ограничен). Они не знали языкового барьера; и если они и были в какой-то мере дилетантами, то дилетантами талантливыми. Любой образованный человек мог понять другого — ведь корни всех научных терминов восходили к латинскому или греческому языку.
К середине XIX века появились «ученые», и это означало, что люди, которых так называли, перестали быть дилетантами, приверженцами натурфилософии, «людьми науки», которые легко могли находить общий язык со своими коллегами гуманитариями. У них появился профессиональный язык, доступный лишь специалистам.
3a два столетия до того, в 1640 году, великий чешский педагог Ян Амос Коменский, чьи мысли во многом восприняты современной педагогикой, высказал замечательную идею, касающуюся науки. Это была мысль о создании «Пансофикона». Она скорее всего была навеяна трудами Фрэнсиса Бэкона, в частности его «Новой Атлантидой», но именно Коменский четко сформулировал ее. Он предложил создать специальное учебное заведение, где время от времени собирались бы ученые мужи всего мира и обменивались знаниями и опытом, дискутировали, способствуя тому, чтобы достижения науки становились широко известными и служили на благо людей.
Эта идея нашла отклик в Англии, и Коменский был приглашен в- Лондон. Его предложения встретили столь горячую поддержку, что даже предполагалось превратить в такой колледж семинарию Св. Джеймса в Челси. Пути и средства создания этого учебного заведения должны были обсуждаться парламентом на той его сессии, которая совпала с началом гражданской войны. Король Карл I был казнен, идея Коменского была забыта, а здание, предназначенное для осуществления его проекта, Карл II по наущению Нелл Гвин передал под богадельню для ветеранов войны. Но идея Коменского не погибла безвозвратно. Она вдохновляла ученых, встречавшихся в «невидимом колледже» сначала в Лондоне, а потом в Оксфорде. Позднее эти люди создали Лондонское королевское общество — прототип многих национальных академий наук.
«Лунное общество» Бирмингема тоже было в какой-то мере отпрыском «Пансофикона», как и сегодняшний Принстонский институт подготовки научных кадров, который по-своему воплощает в жизнь идею Яна Коменского. Но следует подчеркнуть, что эта идея в наши дни означает не только обобщение и усвоение знаний на высоком научном уровне, как это делается в Принстоне. Нам нужно найти такое средство, которое помогло бы внести научные знания во всю жизнь общества. Нам нужно возродить в обществе дух исследования и понимания науки.
Когда в конце XVIII века Королевское общество начало становиться все менее доступным, Румфорд основал Королевский институт. Выходец из Америки, Румфорд служил у короля Баварии, который пожаловал ему титул графа Священной Римской империи. Он приехал в Лондон с мыслью создать на основе частных пожертвований «заведение для пропитания бедняков и подыскания им полезной работы... связанное с институтом, способствующим широкому внедрению в жизнь новых изобретений и усовершенствований, в частности относящихся к использованию тепла, экономии топлива и различным другим механическим приспособлениям, благодаря которым можно достигнуть больших удобств и экономии в хозяйстве».
Хотя это учреждение предоставило лаборатории Дэви и Фарадею, к 1831 году оно из учреждения, предназначенного обслуживать простой народ, превратилось в своеобразный клуб интеллигенции. Это привело к возникновению Британской ассоциации содействия развитию науки. Ассоциация была создана в 1831 году в Йорке, и одной из ее целей стало устранение препятствий на пути внедрения научных достижений в повседневную жизнь. Создатели Ассоциации ясно понимали, что одно из таких препятствий — это невежество широкой публики в вопросах науки. Именно тогда зародилась традиция приглашать ученых читать публичные лекции. Эта традиция жива и по сей день, так что люди, витающие в облаках, время от времени спускаются на землю.
Когда во второй половине XIX века начался процесс все большей специализации науки, Британская ассоциация пыталась выправить такую тенденцию. В 60-х годах прошлого века ученые начали выступать с лекциями для рабочих, для фермеров. Простых людей знакомили с достижениями науки такие выдающиеся деятели того времени, как Тиндалл, Т. Хаксли, Луббок, Прис, Эйртон, Брэмвелл, Болл и другие. И нужно сказать, что стремление понять проблемы науки было необыкновенно сильным даже среди фактически неграмотного населения. В Южном Уэльсе горняки организовали экскурсионные поезда, чтобы ездить в Кардифф на лекции С. Томпсона по электричеству, а в Брэдфорде 3500 заводских рабочих почти два часа слушали его затаив дыхание.
В начале XX века их дело продолжили Рэй Ланкестер, Ричард Грегори, Герберт Уэллс. Биологу Уэллсу был доступен смысл теоретической статьи Содди (1911 год) о трансмутации атомов и возможном выделении атомной энергии, и он поразительно точно предсказал год — именно
1932,— когда будет осуществлена первая реакция искусственной радиоактивности.
Ученые, однако, становились на путь все более и более узкой специализации. В 1900 году Лондонское королевское общество отказалось от попыток стать национальной Академией наук и выделило из своего состава Британскую академию, объединяющую гуманитарные науки. В его ведении остались точные и естественные науки. «Натурфилософия» сохранилась в названиях некоторых кафедр шотландских университетов, где профессорами были специалисты в области физики. Термин «физика» для названия науки заимствован из трудов Аристотеля, посвященных предметам природы вообще. Затем эта наука ограничила себя (кроме физического общества в Эдинбурге, которое «захватили» биологи) изучением «основных свойств материи и энергии (исключая биологию и химию)».
На смену широким дискуссиям за бокалом доброго вина, которые некогда велись при мягком свете свечей, пришли все более специальные доклады на семинарах, коллоквиумах и конференциях, где «жаргоне» обсуждают новейшие открытия мезонов, реакции синтеза аминокислот или особенности строения усиков дрозофилы. Научные общества сами теперь все больше «расщепляются» на группы, подгруппы, секции и подсекции.
Поэтому не удивительно, что непосвященным людям наука представляется в виде какой-то сокровищницы за семью печатями, доступной лишь избранным, где хранятся сундуки с драгоценностями, именуемыми «физика», «химия», «биология», «геология», «астрономия» и др. Каждый сундук заперт на замок с секретом, открыть который может только тот, кто посвящен в тайну его механизма. А в сундуках — множество ящиков и ящичков с надписями: «ядернай физика», «кристаллография», «твердое тело», «коллоидная химия», «органическая химия», «неорганическая химия», «цитология», «генетика», «биофизика», «биохимия» и так до бесконечности.
Весьма сомнительно, чтобы кто-нибудь составил перечень всех ветвей современного естествознания. Что еще хуже, так это то, что представители каждой из них изобретают свой собственный язык. И все же с этим можно было бы примириться, если бы они считали этот язык лишь удобным средством внутреннего общения, чем-то вроде скорописи со своими правилами, известными изобретателю и небольшой группе приближенных ему людей. Но очень многие ученые полагают, что их язык-код доступен всем, а если кто-то его не понимает, то только по невежеству или глупости. И даже нормальный язык науки искажается в результате неправильного употребления.
ели бы все современные ученые пересмотрели ^^свои последние труды и исключили из них специальную терминологию, использовав приемы описательного повествования (не для того, чтобы снизойти до уровня читателей или подобных мне авторов научно-популярных книг), это было бы для них прекрасной школой самовоспитания и дисциплины. Говоря начистоту, если ученый не в состоянии объяснить, что он делает, значит, он просто не знает, что он делает. Каждый выдающийся ученый мог говорить доступным языком — даже Эйнштейн стремился к этому! Если ученый ограждает себя барьером недоступности, это говорит только о том, что он недостаточно уверен в своих знаниях. Таким образом, специализированный язык — одна из худших черт дробления науки. Не будет преувеличением сказать, что он одна из причин этого дробления.
«Беда в том, что наука и разъяснения науки становятся все менее доступными для всех, кроме специалистов»,— писал профессор Леви в июне 1955 года в «Справочнике по литературе». В нашей быстроизменяющейся жизни ученые оказывают значительное влияние на язык народа. Влияние норманского вторжения на английский язык было огромным; однако неизмеримо большее влияние на язык оказывает современная наука. Вслушайтесь в беседу химиков, биологов или математиков, и вы почувствуете, что не понимаете своей родной речи. Иногда эти беседы может лучше понять даже иностранец. (Пожалуй, не лишнее добавить, что такой иностранец должен быть химиком, биологом или математиком и принадлежать к определенной научной школе.)
Говоря о «языке математических символов», профессор Леви спрашивает: «Вы хотите разъяснения теории относительности Эйнштейна. Какого разъяснения? На языке англосаксонской эпохи и в свете представлений того времени? Или на языке XVII века и, следовательно, в свете представлений времен Ньютона? Или, скажем, на языке 1900 года? Или с помощью современных технических терминов? Или опираясь на современную математическую символику? Все это будут попытки разъяснения, но насколько успешными они окажутся?»
Или, может добавить автор этих строк, на языке лондонских баров? Именно так, сидя за кружкой пива и бутербродами, профессор Леви однажды «перевел» мне на обычный язык теорию Эйнштейна — и, должно быть, небезуспешно, судя по моему выступлению в тот же вечер в программе Би-би-си. Должен сознаться, что это напоминало объяснение, данное канадским индейцем на вопрос, что такое атомная энергия. На севере Канады геологи привлекают индейцев к поискам урановых руд. Я заинтересовался, как индейцы представляют себе цель этих поисков, и спросил их вождя, как на его языке называют атомную энергию. Он ответил: «Искотик — отчит каочипь-ик», что означает: «Молния, выходящая из скалы».
Вопрос терминологии, возможно, самый важный вопрос в дискуссии о способах общения ученых с широкими кругами населения. Есть пословица: «Слепой курице— все пшеница». Многое из того, что делают ученые, может показаться непосвященным такой «пшеницей», потому что неспециалисты слепы в науке, или, вернее, ослеплены наукой.
Как указывает профессор Леви, ученые, каков бы ни был их родной язык, в целом могут понимать друг друга; им достаточно для этого общих терминов их специальности. Они похожи на мастеров средневековья, которые странствовали по Европе, не зная языков, но успешно общались с людьми своей профессии при помощи знаков и символов. Их мастерство было действительно тайной, и приемы своей профессии они передавали от поколения к поколению, от мастера к подмастерью.
Иногда кажется, что современные непонятные языки научных специальностей придуманы не для того, чтобы объяснять, а, наоборот, чтобы вводить в заблуждение, подобно зашифрованным названиям военных операций. Ничего хорошего не получается и из заимствования терминологии из лексикона смежных наук. Наглядным примером может служить термин «плазма». Это слово было впервые применено физиологами около 1845 года для описания бесцветной жидкой компоненты крови, лимфы, молока или мышц. Сто лет назад биологи включили этот термин в слово «протоплазма» для обозначения живого вещества клетки. Уже в то время знатоки классических языков должны были бы протестовать, потому что греческое слово в основе этого термина означало «вылепление», «оформление». Однако они промолчали, и биологи присвоили его, а затем он получил широкое применение в народе благодаря донорам.
теперь мы знаем о новой науке — «физике плазмы», которая изучает физические явления в газовых разрядах. Термин «плазма» специалисты в области флуоресценции применили для обозначения потока положительных и отрицательных ионов в газовых трубках еще до того, как он приобрел новое значение в нашу эпоху овладения термоядерной энергией и использования ее в мирных целях.
Но почему «плазма»? В физике это означает, конечно, не «оформление» и не «жидкость», как у биологов. Аналогия могла бы быть проведена только между ионами и кровяными тельцами, то есть как раз противоположно биологическому смыслу этого термина. На одной научной конференции в США, где присутствовали физики и биологи, первые то и дело говорили о плазме. Наконец кто-то из биологов, сидящих в конце зала, жалобно спросил председателя, нельзя ли этому слову вернуть его прежний, биологический смысл. «Нет, — ответил председатель,— у физиков-атомщиков денег так много, что они навсегда откупили его».
Подобное заимствование терминов часто приводит к недоразумениям. Иногда это выглядит как некое пренебрежение к меньшой братии, а иногда термины сохраняются как пережитки прошлого, напоминая об описательной фазе изучения предмета.
Возьмем в качестве примера термин «деление» в ядерной физике. Как известно, Ган и Штрассман открыли новое физическое явление, возникающее при бомбардировке
ядер урана нейтронами. Оказалось, что атом урана распадается при такой бомбардировке на две приблизительно равные части. Об этом открытии они сообщили своему коллеге Лизе Мейтнер, которая тогда жила в эмиграции в Швеции. Как раз в то время у нее гостил ее племянник Отто Фриш, впоследствии профессор Кавендишской лаборатории в Кембридже. Они с большим интересом обсуждали открытие Гана и Штрас-смана и пришли к выводу, что возможным объяснением этого явления могла бы быть гипотеза о нарушении равновесия между силами притяжения и отталкивания в ядре урана, принявшем дополнительный нейтрон. Картина развивается так, как если бы ядро урана с дополнительным нейтроном начало вытягиваться, вначале образуя шейку, а затем распадаясь на части. Отто Фришу это показалось очень похожим на процесс размножения живой клетки. Возвратившись в Копенгаген, где он работал в институте Нильса Бора, Фриш обратился к своим друзьям биологам с вопросом, как они называют процесс размножения клетки. Ему сообщили о термине «деление». Это заимствование оказалось удачным.
Физики ввели термин «атомный котел», но сразу же сами стали жаловаться на его неточность: во-первых, он не «атомный», а «ядерный», во-вторых, не «котел», а «реактор». Дело в том, что, когда Ферми строил на стадионе Чикагского университета эту установку, она была названа «котлом», поскольку ее назначение было известно очень ограниченному кругу лиц, а для большинства это был и в самом деле котел, загружаемый графитовыми брусками и металлическим ураном. Термин этот при всей его бессмысленности прочно вошел в обиход. Когда я работал редактором по вопросам науки в лондонской газете «Ньюс кроникл», я битых три года приучал читателей к правильной терминологии, переходя постепенно от выражения «атомный котел (ядерный реактор)» к выражению «ядерный реактор (атомный котел)».
Наиболее курьезные случаи смещения понятий и недоразумений можно найти именно в области ядерной физики. Открыв способы высвобождения атомной энергии, человек как бы создал «богов микромира». Наши далекие предки обожествляли гром и молнию, а теперь на смену этим божествам пришли явления, которые мы не видим и не слышим, не ощущаем и не осязаем, всепроникающие явления радиации. Это породило новое
суеверие. Имя этого нового суеверия, подобного обожествлению стихий, — страх перед радиоактивностью.
То, что все эти новые понятия вызваны к жизни человеческим разумом и могут быть исследованы и познаны учеными, — слабое утешение для тех, кто не знаком с методами современной науки. В силу своего невежества такие люди инстинктивно рассматривают науку как вмешательство человека в сферы, которые лучше бы оставить в покое. Это, конечно, неразумный и достойный сожаления взгляд, но его отголоски можно заметить в любой дискуссии по проблемам атомной энергии.
В октябре 1957 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила группе экспертов, в числе которых был и я, изучить некоторые психологические аспекты мирного применения атомной энергии. Нам были предоставлены многочисленные отчеты о научных исследованиях, проведенных в различных частях земного шара — не только в развитых странах, но и среди населения слаборазвитых стран, где подчас никто не видел не только учебников по ядерной физике, но даже и газетных заголовков на эту тему.
Результаты нашей работы, в общем довольно поверхностные, тем не менее настораживают. Всеобщее беспокойство вызывают не только потенциальные возможности применения ядерного оружия, но и мирное использование энергии атома. Мы осознали, что щит нашей цивилизации не так уж непроницаем, и, столкнувшись с огромной мощью мизерного атома, цивилизованный человек забивается, подобно своему неандертальскому предку, в темные пещеры собственных эмоций. Нас словно бы отбросили к временам «детства человечества».